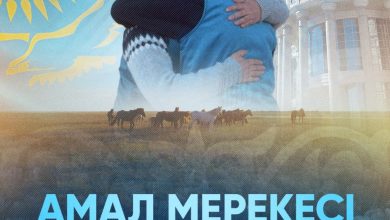Асылбек Избаиров — д.и.н. профессор, директор Института геополитических исследовании
Широко распространенный среди казахов обычай заключать браки лишь с теми, чьи предки лежат от них далее, чем «Семь Дедов» («Жеты Ата»), в настоящее время часто подается, как очевидная «противоречащая Исламу казахская традиция», будто бы ясно указывающая, что народные убеждения нашего народа вступают в противоречие с мусульманскими традициями. Есть даже люди, которые объясняют свой выход из Ислама этими противоречиями, утверждая сакральность «ЖетыАта» в качестве обоснования к «возврату» к доисламским верованиям кочевников (на самом деле — новоделу под языческими флагами).
Давайте разберем подробно, почему же эти люди ошибаются и откуда следует эта традиция, а также — насколько «священной», сакральной она вообще была. Но для начала, позвольте развеять еще один миф, связанный с «Семью Дедами» — про то, что кочевники, будучи умелыми заводчиками скота, эмпирически подошли к пониманию того, что близкородственные связи вызывают накопление генетических отклонений и, как следствие, больное потомство, а потому могли решить их запретить для себя.
Дело в том, что в скотоводстве широко распространены оба способа выведения потомства — и аутбридинг (спаривание с неродственными животными), и имбридинг (спаривание с родственными животными). Это два основных способа воспроизводства племенных сельскохозяйственных животных. У инбредных животных (потомков близкородственного скрещивания) далеко не всегда проявляется инбредная депрессия, благодаря чему имбридингдостаточно широко используется в практике племенного животноводства. Особенно — для закрепления в генотипе качеств особенно выдающейся особи, для чего и прибегают к его скрещиванию с близкородственными особями (чаще всего с его/ее же детьми).
Таким образом, мы видим, что у производителей скота не должно было в сознании сформироваться табу на близкородственные связи, ибо они сознательно применяли их на протяжении всего времени с момента зарождения скотоводства. Современные историки и обыватели судят об этом явлении на основании своих знаний, почерпнутых из школьного курса биологии, где четко расписаны отрицательные качества близкородственных связей, но люди Средневековья этих данных не имели, и практиковали имбридинг довольно широко по всей Евразии.
Тем не менее, мы знаем, что среди многих обществ, живших на племенном уровне, практиковалисьтрадиции ограничения на заключения браков по принципу экзогамии (с представителями иных родов, племен и обществ) и эндогамии (с представителями своего рода, племени, общества). Наличие обеих форм ограничений говорит нам о том, что генетический принцип явно стоял не на первом месте в таких предпочтениях. Известные антропологи, Эдуард Тайлор и Клод Леви-Строс, объясняли запрет на близкородственные браки «стремлением расширить социальные контакты и установить отношения с другими социальными общностями». И это выглядит, как наиболее обоснованное объяснение в случае с казахами.
Но прежде чем мы перейдем непосредственно к нашему народу, позвольте указать на то, что в семье непосредственного предка казахской правящей фамилии, Чингисхана, традиции запрета на эндогамию не было. В качестве примера, можно привести тот факт, что его младшая сестрёнка, Темулун, была выдана замуж за родного брата своей матери, Оэлун, своего дядю — Буту. А после ее смерти, Чингисхан выдал за него же замуж свою дочь, Ходжин-бэги, которая приходилась ему уже внучатой племянницей. Их дочь, Кутукуй-хатун, была выдана замуж за другого своего родственника, Мэнгу (Мунке), внука Чингисхана, сына Тулуя. То есть внук и внучка Чингисхана стали мужем и женой без каких-либо препятствий. Кстати, брат Кутукуй-хатун, сын Буту и Ходжин-бэги по имени Дарги, тоже женился на близкой родственнице — дочери Чингисхана, Джабун, т.е. на своей родной тете. Также в семье Чингисхана практиковались браки на мачехах, к примеру, за руку и сердце Муге-хатун, вдовы своего отца, соперничали Чагатай и Угэдэй(Чагатай уступил брату). Таким образом, мы видим, что придерживавшиеся шаманского язычества монголы при Чингисхане традиции «Жеты Ата» не имели. Не соблюдали часто ее и прямые потомки Сотрясателя Вселенной — торе.
Когда же мы встречаем эту традицию? Относительно поздно. В правление 13-го правителя Казахского ханства, хана Есима Шигайулы. Он возглавил казахов в 1598-1628 годы, спустя полтора века после основания Казахского ханства в 1465 году. Именно Есим хан сформулировал запрет на браки между родственниками «до седьмого колена» в рамках своего уложения, вошедшего в историю, как «Есімханның ескі жолы».
Но для чего он сделал это? Если предположить, что он просто закрепил ранее уже существовавшую и общепринятую традицию, что в принципе странно (зачем закреплять своим указом то, что итак незыблемо?), то непонятно, отчего за нарушение этой нормы предписано столь жестокое наказание — смертная казнь? Тут есть смысл рассмотреть ситуацию в контексте: казахское традиционное право устанавливало возможность выплаты откупа даже за убийство или изнасилование. Однако, тут запрет близкородственных браков предполагает более суровое наказание. Какие выводы можно сделать из такой ситуации? Единственным логически обоснованным выглядит политическая необходимость. Устанавливать старые традиции таким жестким образом странно, создавать новые правила морали (с учетом того, что никаких изменений в вероисповедании или моральных уложениях на тот момент не было) — тоже. Страхом смертной казни обычно вводят новые правила, которые должны дать быстрый эффект.
Но какая политическая необходимость была у Есимхана требовать от казахов заключения браков за пределами «Семи Дедов»? И опять же, вернемся к контексту. Правление Есим хана было небезоблачным, по сути — это череда кризисов, через которые проходила казахская государственность. При этом, его время считается третьим периодом усиления Казахского ханства (после Касыма и Хакназара).
Главной задачей Есима было реформирование ханства, трансформация его из кочевого союза в устойчивое государство, с контролем над земледельческими регионами по Сырдарье и южнее. Причем это происходило на фоне роста могущества калмаков-ойратов, начавших свои походы под религиозными знаменами, в рамках чего буддисты воевали против мусульман. И именно в при нем же у казахов сложилось двоевластие: Есим хану пришлось выдержать долгую борьбу с Турсуном ханом, правившим Ташкентом.
Противостояние завершилось знаменитым катаганским побоищем в 1627 году, по итогам которого Турсун был убит, а род катаган, который, видимо, был его наследственным улусом, подвергся казням и «расформированию». Конфликт с Турсуномотражает главный вызов для Есим хана — смута и конкуренция со стороны других Чингизидов. Чтобы уничтожить ее на корню, Есим и пошел на реформы, целью которых было радикальное усиление родовой верхушки — биев, батыров, старшин. Права и влияние Чингизидов были сильно ограничены, но чтобы государство не развалилось, не начался родовой сепаратизм, Есим и начал агрессивно внедрять институт сближения родов, потребовав у народа заключать браки между родами, а не внутри них. Таким образом, он скреплял межродовое единство (горизонтальные связи) наиболее эффективным на тот момент инструментом. Дело в том, что браки в те времена не были романтической связью, а базировались на расчете на укрепление общины за счет установления союзнических отношений с другой общиной посредством образования семейных связей.
Именно по этой причине, например, у казахов существует обычай, согласно которому жезде (муж сестры) обязан баловать своих балдызок (сестренок жены). Мы знаем о нем, но редко понимаем значение. А оно заключалось в том, что какая-то из балдызокмогла в любой момент (в случае смерти супруги) быть послана своим родом «на замену» своей сестры, то есть стать новой женой жезде. По этой же причине — что брак это союз семей или родов, а не «двух сердец» — существовало и аменгерство, когда вдова выходила замуж за брата своего покойного мужа. Заключившие брак стороны, выполняли «замены» в общей команде, как в спорте, чтобы поддерживать свой союз. Сыновья часто гостили и даже воспитывались в семье матери, где ее отец выступал их воспитателем — аталыком. Отсюда особое отношение казахов к детям дочерей (жиен), которые были не просто гостями, но также воспитанниками и вероятными будущими новыми зятьями рода. Ведь воспитываясь у аталыка, заодно они присматривали среди материнской родни (нагашылар) себе невест. Именно об этом всем идет речь в присказке «кудалык— мынжылдык». То есть поколение за поколением брачные связи укрепляли связи между семьями. Есимхан же поднял и закрепил этот обычай на уровень межродовых отношений, создавая из них единый мусульманский народ.
Вынужденный делать ставку на родовую аристократию, чтобы преодолеть провоцируемую Чингизидами раздробленность, Есим хан был обязан обеспечить единство этих родов между собой, иначе государство начало бы распадаться уже по родовому признаку. Отсюда становится понятным и обоснованным то, с какой жесткостью обеспечивается поддержание этого механизма, закрепленного через правило «Жеты Ата». Это именно тот самый принцип «стремления расширить социальные контакты и установить отношения с другими социальными общностями», о котором говорят Тайлор и Леви-Стросс, но со свирепым «чингисхановским» обеспечением и в рамках мусульманской концепции защиты единства общества в рамках государства.
Кстати, похожий по принципу, хотя и противоположный по форме, обычай возник и в Османской династии. Там, чтобы избежать смуты и гражданских войн между наследниками, в какой-то момент было введено правило — убивать всех братьев нового султана, вступавшего на трон после смерти своего отца. Ясно, что такой обычай также внешне явно противоречит Исламу. Однако, при этом, внутренне, оба обычая прямо проистекают из мусульманского принципа недопущения смуты (фитны), разделения общества и государства жестким способом.
Аллах в Коране сказал:
«Крепко держитесь за вервь Аллаха все вместе и не разделяйтесь». (Коран, 3:103)
Но еще более тонкий смысл, который может объяснять ту жесткость, которую различные тюркские народы применяли, чтобы обеспечивать единство и безопасность своих государств, заключенв хадисе, в котором Посланник Аллаха сказал: «Если кто-то пришёл к вам, когда вы единодушно подчиняетесь определённому человеку, и хочет внести раздор между вами и расколоть ваше единство, то убейте его». (Муслим, 1852).
Таким образом, мы видим, что и Есим хан смотрел на нежелающих укреплять межродовые связи, как на тех, кто раскалывает единство казахов, и султаны Османов рассматривали своих сыновей (кроме наследника), как людей обреченных угрожать единству и стабильности государства, а потому они шли на столь крайние меры. Так, внешне «противореча» Исламу, правители тюркских государств, наоборот, старались следовать сути его послания о высшей ценности единства общества и государства.
Вместе с тем, мы видим, что столь жесткие запреты были уместны и обоснованы лишь в определенный исторический период, являясь ответом на вызовы своего времени и ситуации. Считать его чем-то сакральным вне этого исторического контекста довольно странно. С тем же успехом французы могли бы считать себя обязанными носить бороды из-за того, что правивший в 1515-1547 годы король Франциск I нарушил многовековую католическую традицию брить лицо. А русские — потому что в 1550 году царь Иван Грозный повелел за бритье бороды отлучать от церкви и казнить смертью. Понятно, что ни те, ни другие этого не делают.
Резюмируя, хочется отметить, что «Жеты Ата», конечно, и сегодня имеет многие положительные моменты, как генетические, так и национальные, поскольку стимулирует знание своей родословной, интерес к корням, истории. Но, вместе с тем, надо не только знать его и бездумно следовать ему, но также важно и разбираться в этом обычае, его происхождении и значении. Только такое знание будет важной частью Идентичности человека, укрепляющей его в настоящем и будущем. Напротив,прямолинейная огульная сакрализация всего и вся, свойственная чисто «этнографическому» подходу, но не живой традиции в развитии, походит на попытки сохранения пустых внешних форм без их внутреннего содержания. Не говоря уже о том, что противопоставление «Жеты Ата» Исламу есть полная противоположность самим корням этого обычая, призванного сплачивать казахское общество, как мусульман, а не разделять его.